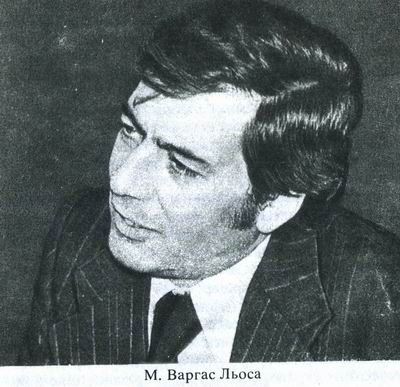Марио Варгас Льоса: сознание художника и реальность
МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА[88]: СОЗНАНИЕ ХУДОЖНИКА И РЕАЛЬНОСТЬ
Как многие писатели Латинской Америки, Марио Варгас Льоса — теоретик своего искусства; согласно его эстетике, писатель — это бог, демиург, создающий землю, планету, мир, законченный в себе и живущий по своим законам. Мысль, конечно, не случайная, рожденная творческим опытом и отражающая подход к жизненному материалу. И Варгас Льоса, действительно, хитроумный и умелый инженер. Каждый его роман — целостный универсум, где люди живут по правилам, в нем действующим. Разумеется, каждое произведение любого писателя — своеобразный мир. Но у Варгаса Льосы — стремление к созданию тотальной конструкции бытия, которая, не подражая видимости течения жизни, отражала бы сразу все ее многообразие, всю ее сложность, неразбериху и вместе с тем железную логику. Не рассказать о мире, а показать его объемно, сразу все, запустить в действие, как запускается в ход перед изумленными зрителями сложная и совершенная модель. Для этого Варгас Льоса разработал свои средства изображения действительности в разных временных планах, в восприятии разных лиц, в столкновении прошлого и настоящего, во взаимоотражениях лиц и поступков, в оригинальных способах концентрации времени. Но речь менее всего идет об эстетских упражнениях или об игре в «структуры», чего вполне хватает в сегодняшней западной литературе.
Как и другие лучшие писатели горячих 60-х годов, Варгас Льоса всегда бил в сердцевину времени и истории. Это стало ясно с первого его романа, «Город и псы», вышедшего в 1963 году. В романе показывалось, как готовятся — калечатся — в стенах военного учебного заведения подростки к войне «всех» против «всех», как из «щенят» дрессируются псы («Щенки»— так позже Варгас Льоса озаглавил небольшую повесть о «воспитании» молодежи жизнью). Мир училища повторял в уменьшенном виде мир города, а город воспроизводил контуры социальной системы. Реакция тех, кто стоял на охране буржуазно-олигархического режима, была незамедлительной и недвусмысленной. Писателя восприняли всерьез и его роман сжигали на плацу училища «Леонсио Прадо».
В 1966 году вышел новый роман — «Зеленый дом», укрепивший славу Варгаса Льосы, демиурга-мятежника. Получая в Каракасе присужденную ему за эту книгу премию имени Ромуло Гальегоса, Варгас Льоса произнес речь, в которой ясно изложил свое понимание общественной роли литературы: «Литература может умереть, но никогда не будет конформистской. Она полезна для общества только в том случае, если отвечает этому условию... Литература способствует совершенствованию человека, препятствуя духовному маразму, самоудовлетворенности, неподвижности, параличу, интеллектуальному или нравственному раздвоению. Ее миссия состоит в том, чтобы возбуждать, беспокоить, тревожить, заставлять человека быть недовольным собой, постоянно стимулировать его волю к изменениям и переменам, даже если для этого надо применять самое ранящее, вредоносное оружие».
Под этим творческим манифестом могли бы поставить свои подписи многие писатели поколения Варгаса Льосы. Война, которую во имя любви к человеку он объявил жестокой действительности, была сродни той, что вели писатели в соседних странах, писатели, продолжившие в 60-е годы традиции первопроходцев «нового романа» — Астуриаса, Карпентьера. Сила отрицания, точка кипения социальных эмоций приближалась к критической.
Варгас Льоса создал в «Зеленом доме» потрясшую даже видавшего виды читателя (особенно после русской классики) картину неприкрытого, самого обнаженного в своем первовиде социального угнетения, превращающего жизнь в антижизнь, а людей — в носителей антиморали мира насилия. Его, этот мир, символически уничтожал в «Ста годах одиночества» Гарсиа Маркес, сметая ураганом Макондо (реакция колумбийских «бонз», обвинивших писателя в аморальности и дурном влиянии на институток, по сути дела, была идентичной реакции на произведения Варгаса Льосы, только что дело не дошло до «рукоприкладства»).
Мы не случайно сопоставили этих двух писателей, очевидно самых типичных для их поколения, коренным образом изменившего представление о том, что такое роман Латинской Америки. Поколение это было рождено исторической новью континента, вступившего в начале 60-х годов в период открытой борьбы антагонистических социальных сил. Вдохновлял пример революционной Кубы, и победа казалась близкой — стоит только как следует ударить по кандалам зависимости, угнетения, отсталости, сковывающим континент. В поле высокого напряжения этой борьбы закалялось революционное сознание, рождались образцы организованной классовой борьбы и классические примеры анархических безумств, драматических и безуспешных попыток подтолкнуть историю, непременным результатом чего были отчаяние, апатия, ренегатство. История прокладывала свои пути не через кабинеты теоретиков или шумные собрания радикалов «кожаных курток» и «длинных волос» и не только через тропинки партизанских отрядов. Ее решения всегда оказывались неожиданными в диалектическом сплетении многочисленных факторов. На этой изборожденной глубочайшими социальными и идеологическими разломами почве и рождалось творчество «поколения шестидесятых», решительных и бескомпромиссных противников буржуазного миропорядка, одинаково осознававших правоту истории, но по-разному представлявших ее перспективы и средства борьбы за них. Самое крайнее, что могли противопоставить обществу насилия художники-радикалы, была, по формуле известного бразильского кинорежиссера Глаубера Роши, «эстетика насилия».
Могут возразить: причем здесь история, радикализм, революция? Гарсиа Маркес написал просто историю рода смешных и трагических Буэндиа, а Варгас Льоса просто изобразил жизнь в сельве. Нет, их творчество о том, именно о том, ибо история рода Буэндиа или нескольких любовных пар в «Зеленом доме» — это не только и не столько истории частных лиц. Латиноамериканские романисты в отличие от многих западноевропейских писателей, блуждающих по дорожкам индивидуалистического сознания, исследуют сегодня историю, общество.
Карпентьер, одним из первых прорвавший провинциальную замкнутость литературы континента, как сквозь «магический кристалл» увидел недалекое будущее, когда писал: «Для нас, в Латинской Америке, начался этап эпического романа, своего рода эпоса...» Стремление к созданию эпически всеохватывающих художественно-философских концепций действительности в сложной взаимосвязи ее социальных, исторических и национально-этнических проблем и стало отличительной чертой литературного развития.
«Тотальные конструкции» латиноамериканских романистов — это прежде всего не сумма приемов и методов, сама «технология» рождена новаторскими и смелыми попытками дать образ общества, достигшего в своем историческом движении кризисной точки. О прямой связи творчества художественного с творчеством истории во весь голос сказал Варгас Льоса. «Все великие эпохи романа предшествовали социальному апокалипсису, были приближены к нему вплотную», — говорил писатель, сопоставляя взлет латиноамериканского романа с такими ключевыми в истории этого жанра периодами, как перелом от средневековья к Ренессансу или преддверие революции в России. Здесь и понимание того, с чем имеет дело писатель, и то, как он понимает это.
Варгас Льоса осознает латиноамериканскую действительность как мир накануне социального слома. Так понимают реальность многие, но каждый видит ее по-своему. Как видит ее Варгас Льоса? «Апокалипсис» — слово, использованное писателем,— слово не случайное, дающее возможность понять его манеру художественного видения мира в канун, да, собственно, и в ходе революционных изменений. Оно в том же лексическом ряду, что и «начальное» слово «демиург», и это вполне естественно, ибо кому же под силу построить «тотальную конструкцию» — образ общества в апокалипсическом состоянии, — как не разгневанному демиургу?
Попробуем войти в «конструкцию» Варгаса Льосы, посмотреть, на чем она держится, с помощью какого эстетического материала выстроена.
Сразу же по выходе «Города и псов» критики заметили, что в его основе лежит биполярная схема (дети-кадеты и калечащий их мир). Подобная схема лежит, по сути дела, в основе и всех других его романов, где за сюжетом и героями, за масками беспощадного и даже жестокого к человеку демиурга (а жестокость в литературе, считает Льоса,— это «доказательство любви»)— одно и то же, последнее выражение лица: изумление перед миром социального зла, в котором калечатся жизни, гибнут люди. В «Зеленом доме»— история растления девочки-индеанки Бонифации, выловленной в сельве вместе с другими подростками для приобщения их к цивилизации; в романе «Разговор в „Соборе"» (1969) — история духовной гибели юноши Сантьяго Савалиты, сына столичного магната; в «Капитане Панталеоне и Роте добрых услуг» (1973) тема развращения природы человека доведена до глобальных символов.
Биполярная схема оказывается следствием противостояния жестокого мира и «детского сознания». Что такое «детское сознание»? Это сознание наивное, естественное, строящееся на абсолютно-идеальных представлениях о жизни. Оно превращается в сознание «раненое», «оскорбленное», а то и в «безумное», как только входит в соприкосновение с миром, который никогда не отвечает предъявляемым ему требованиям. Социальная невинность такого сознания предопределяет «греховность», а у Варгаса Льосы, который сталкивает его с обществом, переживающим глубокий кризис,— апокалипсичность мира. Конфликт между ними и составляет концептуальную основу художественной системы Варгаса Льосы, демиурга, карающего грешный мир. Но речь, конечно, идет не о наивности писательского сознания, а о художественном принципе, известном в литературе уже с давних времен. Есть у этого принципа свои преимущества. Абсолютизм идеала придает сокрушительную силу социальному отрицанию, и кто упрекнет писателя, вступающего в схватку со злом с такой же яростью и самоотверженностью, с какой вступали с ним в борьбу — не побоимся сравнений — выдающиеся представители критического реализма? Писательская позиция освящена великой традицией от времен Ренессанса, времен «Симплициссимуса» или «Дон Кихота» — через творчество Руссо и Вольтера — до Достоевского и Толстого. В руссоистской концепции «естественного человека» теоретически оформился художественно-философский антропоцентризм, который определял характер классического европейского реализма. Но у Варгаса Льосы этот принцип, как и у других латиноамериканских художников, его использующих, имеет особый смысл в сравнении с литературой европейской.
Есть определенная закономерность в том, что литература обращалась к принципу изображения мира в столкновении с «естественным» сознанием в кризисные моменты общественного развития, в канун грандиозных социальных взрывов, и, как отметил Варгас Льоса, именно тогда она добивалась своих наивысших художественных результатов. Первый эпицентр приходится на эпоху Ренессанса, второй возник в России XIX века. Наверное, это связано с тем, что социально «безгрешное» сознание особенно остро реагирует на общественные отношения, отчуждающие человека от его «природы». Достоевский и особенно Толстой использовали этот принцип (ненормальное сознание в «Идиоте», невинное — в «Воскресении») для выявления катастрофического состояния человеческих отношений, но прежде всего отношений между людьми как индивидуумами. Только у Толстого «естественное» сознание — это эквивалент патриархального, «природного» сознания крестьянства, а следовательно — в понимании писателя,— народа; но это все-таки скорее мировоззренческий принцип писателя, верящего в утопию «крестьянского социализма».
Иное дело — в латиноамериканском романе. Здесь эта художественная позиция имеет несравненно более широкий Диапазон действия. История растления Бонифации в романе
Варгаса Льосы — это суд над всем неправым миром Латинской Америки, и не только современным, но и в его исторической судьбе. Заметим, что и Гарсиа Маркес, у которого столкновение «естественного» мира Макондо с развращающей цивилизацией одна из основ «Ста лет одиночества», говорит не только о своей стране, но и о Латинской Америке в целом.
Универсальность использования принципа изображения мира в конфликте с «естественным» сознанием имеет свои исторические причины. Эта художественная позиция заново выношена латиноамериканской литературой, потому что конфликт между «естественным» сознанием и миром есть отражение в сознании художественном реального исторического конфликта, с которого началась история Латинской Америки и который продолжается в наши дни.
Если мы переберем хотя бы некоторые, наиболее крупные произведения, ставшие вехами в истории латиноамериканского романа, то обнаружим, что при всем разнообразии сюжетных и тематических вариаций, разнообразии творческих методов есть у них объединяющая черта: концептуальную основу составляет оппозиция между всеми — в их исторической череде — докапиталистическими формами общественной организации, всеми докапиталистическими формами сознания, носителями которых выступают индейцы (а по логике социально-этнической преемственности и их потомки по крови и судьбе — метисы, то есть уже латиноамериканцы, а там, где индейцы уничтожены,— негры и мулаты), и капитализмом, буржуазно-индивидуалистическим сознанием. В системе антропоцентристского художественного мышления «естественное» сознание этих героев Латинской Америки является идеально-оценочным критерием в суде над социальными и историческими коллизиями. Причем если в русской литературе конфликт между миром и «естественным» сознанием носил часто своего рода экспериментальный характер (князь Мышкин— ненормален, Каратаев— почти блаженный), то в Латинской Америке этот конфликт диктуется обычным жизненным материалом. Носителем же «природного» сознания выступает не индивидуум, а целый народ, социально-этническая группа либо социально-этнический типаж, ее олицетворяющий.
Таким образом, художественно-философская проблематика «нового романа» на важнейшем направлении его развития самым тесным образом связана с конфликтом «естественного» сознания с наступающими «неестественными» порядками, но ведущий художественный принцип, организующий произведение, иной, не тот, о котором у нас здесь идет речь. Но об этом позже. Пока же отметим, что характерная для творчества Варгаса Льосы оппозиция «природное» сознание— мир идеально вписывается в общую традицию, более того, выступает как ее индивидуально-творческая трактовка. Это, конечно, всеобщий художественный принцип, но он вытекает из непосредственной действительности Перу, где сосуществуют этносоциальные коллективы разного уровня развития. Положение же внутри страны повторяет положение на континенте в целом, и потому диапазон его действия не просто общество, а система, вся общность Латинской Америки в ее современном состоянии и в исторической судьбе. История постоянно присутствует в современности, потому что сегодняшние конфликты повторяют конфликт изначальный. В своей непосредственно латиноамериканской специфике этот конфликт выступает там, где «естественное» сознание возвращается к своему первоисточнику, к индейцам, — в «Зеленом доме».
«Я не хотел бы, чтобы обо мне создалось впечатление как о наивном продолжателе вольтеровской теории доброго дикаря, развращаемого цивилизацией. Жизнь индейских племен далека от Аркадии...» — писал Варгас Льоса, рассказывая об истории создания «Зеленого дома». Но, разумеется, никто и не заподозрит его в этом. Кандид 60-х годов XX века, заглянувший в сельву, конечно, весьма не схож с Кандидом вольтеровским. Вольтеровский Кандид нашел все-таки в Латинской Америке не только «плохое» государство Парагвай, но и уединенный островок, спасшийся от алчной «цивилизации», идеальное государство «естественных» людей Эльдорадо, где золото служит детям для игры в камешки. Для разгневанного демиурга Варгаса Льосы нет среди подсудимых носителей идеально-оценочных критериев, и потому для него исключена назидательность. Мораль произведений Варгаса Льосы, «моралиста, к его собственному сожалению», по удачному выражению одного исследователя, заключена не в финале «басни», а в целостности всей художественной системы, воссоздающей неправый мир в его «апокалипсическом» состоянии. За тридцать-сорок лет до Варгаса Льосы у Хосе Эустасио Риверы и Ромуло Гальегоса, хотя они, разумеется, и не были апологетами «естественной» гармонии жизни первобытных племен, социальная «невинность» доэксплуататорских форм жизни, природы была мерилом нравственности (вернее, безнравственности) капиталистического мира. Общество, человек выступали у них жертвами торжествующих бандитов, накопителей капиталов в своем самом первичном, конкистадорском виде, то есть жертвами «злой» силы, воли (фетишизация «злых» сил оборачивалась анимизированными глобальными символами: у Риверы — сельва, пожирающая человека, у Гальегоса — злой дух Канайма). Варгас Льоса далек от наивного антропоцентризма. Для него человек не только объект социального зла, но и его носитель. Нет правых и нет виноватых в мире Варгаса Льосы, а есть мир всеобщего насилия, в котором социальное зло не просто результат волевых действий, а следствие постоянного самовоспроизведения этой системы. В «тотальной конструкции» Варгаса Льосы все несчастны: не только жертвы, но и насильники. Реформатор Гальегос надеялся на «улучшение» природы человека, Варгас Льоса осознает мир в иных категориях и образах, в образах «беспощадного» критического реализма.
Из нескольких любовных пар, жизненная история которых организует сюжетную канву романа «Зеленый дом», главные — те пары, что отчетливо и раздельно, словно по слогам, выносят своей жизнью приговор-моралите: Бонифация — Литума и Фусия — Лалита, а из них оказываются в особо страдательном положении Бонифация и Фусия.
Бонифация — индеанка с берегов Мараньона, жертва вторгающейся в сельву «цивилизации». Фусия — доведенный до чистоты символа образ «цивилизатора», беззастенчивого и беспринципного экспроприатора-капиталиста в девственных лесах. То, что происходит в сельве в XX веке, повторяет изначальный конфликт, который происходил при первой встрече Америки со Старым Светом, когда индейцев приобщали к «цивилизации» мечом и крестом. То же самое происходит на берегах Мараньона и в XX веке. Монашки из католической миссии затерявшегося в сельве городишка Санта-Мария-де-Ньева с помощью солдат (а монашки, конечно, исполнены самых добрых намерений!) вылавливают в окрестных лесах девочек, учат их носить одежду, есть ложкой и вилкой, говорить по-испански, читать, молиться. Сцены охоты за детьми как бы предвещают, что ожидает их, когда они вступят в чертоги «цивилизации». Пройден курс обучения, и никто не знает, что делать с бывшими язычницами, они уже не могут вернуться в сельву, но никому не нужны и в этом мире. Самое «разумное» решение подсказывает сама жизнь: в лучшем случае в прислуги, в худшем — в публичные дома. Такова судьба и Бонифации, индеанки с зелеными глазами, которая из одного «зеленого дома» — сельвы — перекочевывает в другой — зеленый публичный дом в Пьюре.
«Цивилизация» развращает физически и духовно Бонифацию, но она убивает своими законами и того, кто живет по ее правилам. Фусия, завоеватель сельвы,— это и обычная фигура современных дней, и «архетип» конкистадора-цивилизатора. Варгас Льоса исходил из реальной истории, услышанной им в сельве. Вынужденный скрываться от властей, мелкий хищник Фусия обосновывается на одном из уединенных островов и, навербовав банду, устанавливает власть над окрестными племенами. Но система тотального насилия в «микромире» сельвы есть отражение насилия, царящего в обществе. Над Фусией — те, у кого реальная власть и деньги. Но и они, хозяева жизни, гниют в «зеленом» борделе. Варгас Льоса вспоминал, что ни один персонаж не волновал его так, как Фусия, пораженный проказой. Разложение плоти, «естества» его жизни — материализация того разложения, которое губит и Бонифацию. Круг замыкается. «Конструкция», которую выстроил Варгас Льоса, действительно тотальна — замкнута и неизменима.
За сюжетом и героями складывается картина застойного общества, в котором все возвращается на «круги своя». Принцип беличьего колеса последовательно проведен во все, крупные и малые, клетки художественной системы. О застое не рассказано, он показан, движение идет только по кругу, но система в целом не движется, как не движется и историческое время. Было бы наивным считать, что эта концепция исторического времени есть лишь плод индивидуального сознания Варгаса Льосы или просто влияний теории Юнга, оказавшей глубокое воздействие на западную литературу. Нет, концепция исторического времени у Варгаса Льосы, с таким мастерством и изобразительностью «разлитая» в ткань повествования, порождена прежде всего состоянием общества, действительностью тех стран континента, где до сих пор кружится беличье колесо отживших социальных отношений, виоленсии. На создание эффекта бесконечной самовоспроизводимости системы работает вся сложная, поистине виртуозно отточенная, новаторская «техника» писателя.
«Разговор в „Соборе“» резко отличается от предыдущего романа по материалу, который лег в основу сюжета, — жизнь Лимы в годы диктатуры Одриа. Герои «Зеленого дома» живут вне текущей политической действительности, персонажи «Разговора в “Соборе”» погружены в нее. Но «круги», которые они описывают, те же самые. Носитель «детского», «раненого» сознания, Сантьяго Савалита также проходит школу «воспитания чувств».
Варгас Льоса неизменно называет среди особо почитаемых авторов Флобера, а из его произведений— «Воспитание чувств». Возможно, линия Сантьяго, как, впрочем, и вообще «обкатка» героя событиями революционно бурлящей жизни,— это воспоминание о любимой книге. Конечно, история Сантьяго ни в коем случае не перифраз судьбы героя Флобера. Фредерик Моро, которого «воспитывает» буржуазная среда, смотрит на революцию глазами чужака, он ощущает себя в системе, как дома. Сантьяго ненавидит систему. Недостижимая любовь Фредерика — госпожа Арну — это идеальное начало, которое, отграничивая его от мещанской обыденности, заставляет жить духовной жизнью. «Госпожа Арну» Сантьяго — это жизнь, внеположная тому миру, который его вырастил. Сантьяго — молодой человек XX века, обладающий тем опытом истории, который был недоступен героям XIX столетия. Флоберовским персонажам было Далеко до отрицания системы, герои Толстого могли прийти к ее отрицанию ценой прожитой жизни. Савалита начинает с этого. «Детское» сознание иначе и не может реагировать на бесчестье разлагающейся жизни. Сантьяго — из героев того типа, которые самим своим существованием сигнализируют о том, что общество, построенное по данной системе, идет к своему концу. Типологически он сродни, например, горьковским героям, а на более близком материале — главному персонажу романа Марио Бенедетти «Спасибо за огонек». Правда, ни герою Варгаса Льосы, ни герою Бенедетти, отшатнувшимся от своих отцов, которые вершат судьбами общества, не удается найти какие-то свои пути. Сантьяго сближается с революционерами, однако с самого начала он чужак среди них. Прошлое, с которым порвал Сантьяго, цепко держит его. Его история «воспитания» жизнью, краха иллюзий — история недолгих попыток вырваться из «зеленого дома».
Тема развращения дублируется во многих других персонажах романа. От развращения не уходит никто— не только те, кто «наверху», но и те, кто «внизу» (Амбросио, Амалия). Ему подлежат все, кто заключает с этим обществом мирную конвенцию. Дон Кайо, Кайо-Дерьмо, начальник охранки, деспот и убийца, вынужден бежать после переворота, но вот он возвращается. Публичный дом в «Зеленом доме»— провинциальный «домашний» бордель захолустной Пьюры, в «Разговоре в ,,Соборе“» он по-столичному пышен, наряден и повсеместен. Линии всех ведущих персонажей пересекаются либо с домом свиданий дона Кайо, либо с публичным домом. И в этом железная логика моралиста Варгаса Льосы, да и самой оппозиции «естественный» мир — «цивилизация», ибо что же, как не бордель, есть последний знак проституирования человеческой «природы»?
Никто не уходит от коррупции, кроме тех, кто, как бывшие друзья Сантьяго, противопоставляет режиму насилия революционную борьбу. Но эти люди не входят в центр интересов писателя, да и не могут войти в него. Почему? Потому что на вопрос: «Как вас зовут, сударь?» — в XX веке Кандид отвечает: «Меня всегда звали Простодушный». Потому что, даже отказав своим героям в праве быть носителями идеала (да и разве может быть жизнь и сознание индейцев сельвы альтернативой общественным условиям, как и сознание тех, кого постоянно «воспроизводит» система) и взяв на себя полномочия судьи грешного мира, демиург все-таки неизбежно возвращается к необходимости оценивать его с точки зрения жертв этого мира.
Где же выход? Толстой заставил Нехлюдова пережить воскресение, иного пути у писателя-моралиста не было. Варгас Льоса далек от такого решения, потому что в его поле зрения не индивидуум, а система, система же раскаяться не может, она не слышит проклятий своих жертв и не поддается нравственному суду. Таков один тип художественного сознания, тип критического реализма, реализма «перезревшего», исчерпывающего себя, а потому не только беспощадного, но и жестокого.
Другой тип сознания запечатлелся в «Ста годах одиночества». «Тотальная конструкция» Гарсиа Маркеса разомкнута в будущее. Неистребимый оптимизм «Ста лет одиночества», неотделимый от трагических тонов,— это оптимизм исторического катарсиса, это оптимизм трагедии, за которой — будущее. Нам не кажется случайным пророчество старого кудесника, который утверждает, что на месте Макондо будет иной, новый город, в котором «не останется даже следов рода Буэндиа», того рода людей, которых породил мир насилия. Такое поле зрения открывается только тогда, когда художник преодолевает узость антропоцентризма и судит мир не моралью индивидуума, а моралью истории, которой только и подсудна система. Этот тип художественного мышления равнодушен к морали и идеалам индивидуума, у него есть иная, более высокая, надмирная точка зрения, как это было в доренессансной литературе. Только в эпоху господства «эпопейного мышления», мышления религиозного, судьей было провидение, а в наше время — история, которая противопоставляет классическому гуманизму, как сказал П. Палиевский в работе о «Тихом Доне», гуманизм «непривычного масштаба».
Разные типы сознания определяют и разные концепции действительности: если за катастрофой Макондо в романе Гарсиа Маркеса мерцает будущее, апокалипсис в «Зеленом доме» бесконечен. В «Зеленом доме» все движется по кругу. Как заметил Карлос Фуэнтес, «поджечь зеленый дом — это революция. Но публичный дом-феникс воскреснет из пепла и будет все также пожирать своих воспитанников»...
Автоматизация художественной мысли, не преодолевающей инерции, непременно должна обернуться автоматизацией художественных средств. Именно эта опасность проглядывает в блестящем и в то же время отмеченном, на наш взгляд, кризисными чертами романе Варгаса Льосы «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг». Вся мощь таланта использована на повторение раз найденного.
Варгас Льоса сказал как-то, что не приемлет юмора в литературе. И не случайно, потому что моралист всегда серьезен. Предельно серьезен он и в этом «смешном» романе, который читается и будет читаться потомками как невероятная фантасмагория, гойевский сон, где реальный мир приобрел самые невероятные и потому особенно резкие очертания. Кошмарный сон, в котором нет места улыбке, только гримаса сарказма.
Казалось бы, сюжет «вольного» анекдота, а на самом деле события, действительно имевшие место в 50—60-х годах, как об этом говорит Варгас Льоса, превращены в социальную сатиру. Капитан Панталеон Пантоха, ревностный служака, беспредельно преданный духу устава, получает необычное задание — организовать для гарнизонов, расквартированных в сельве, публичный дом, чтобы прекратить тем самым покушения солдат на местных жительниц. Пантоха подходит к вопросу «научно», на высоком современном уровне организует предприятие, снабжает его транспортными средствами, и сельва, которая искони представлялась первопроходцам, проникавшим в ее мир, «земным раем», превращена в публичный дом. «Цивилизатор» Пантоха сродни Ансельмо из романа «Зеленый дом», который открывает для пьюранцев эту новинку «цивилизации», как сродни он и «цивилизаторам» из романа «Сто лет одиночества». Варгас Льоса беспощаден к буржуазномещанской среде, к «их» цивилизации, но он останавливается перед ней, словно завороженный.
Жоржи Амаду, в романах которого тема публичного дома, этого знака «цивилизации», занимает большое место, дезинфицирует жизнь смехом, выявляет текучую изменчивость жизни, относительность и разрешимость ее конфликтов. Романы Амаду написаны с позиций карнавализованного сознания, беспринципного с точки зрения морализатора и принципиально враждебного как устоям мещанско-буржуазным, так и догматической серьезности «идеала». Народ у Амаду — гарант и носитель вечной изменчивости жизни, в которой «добро» и «зло» не существуют в очищенном виде, которой движут иные законы — законы диалектики. Варгас Льоса не уповает на народ.
На втором плане романа перуанского писателя — сюжет о народном мессии-пророке, организаторе религиозной секты. Новая вера быстро распространяется по сельве. От жертвоприношений животных сектанты переходят к человеческим жертвоприношениям. Параллелизм между Пантохой и пророком осознается не сразу, он нарастает к финалу, где оба «мессии» приносят себя в жертву своей «вере». Пантоха нарушает приказ о хотя бы формальном сохранении «военной тайны» предприятия, стремясь с идиотическим упорством придать делу общегосударственный размах. За огласку (деятельность его получает международный резонанс) он должен понести наказание. Пророка же, преследуемого властями, по его просьбе распинают адепты новой веры. Распятые животные, распятые люди, распятые души, распятая природа... Круг замыкается, как и в предыдущих романах. Пантоху переводят в гарнизон на озеро Титикака. Пророков, как известно, никогда не убывает... «Зеленый дом» остается замкнутым, непроницаемым для изменения. Символика доведена до глобальной завершенности, демиург окончательно достроил свою «конструкцию».
Что выявил взгляд писателя, когда вторично он посмотрел на сельву? Лишь неизменность. Неизменность — это повторяемость, и потому повторяется символика, повторяются коллизии. В откровенности застывшего, серьезного гротеска-гримасы, который не выявляет изменчивость явления, а, наоборот, абсолютизирует их, особенно явственно видна опасность увековечивания того, что автор хотел бы отрицать. А жизнь между тем меняется, рушит «тотальные конструкции», окостеневшие формы. Она не достигает идеала, потому что идеал всегда идеален, но он и не абсолютно недостигаем. Черты его —в меняющейся действительности.
[88] Варгас Льоса, Марио (р. 1936) — перуанский прозаик и драматург, лауреат премий Ромуло Гальегоса и ЮНЕСКО. Советскому читателю известны его романы «Город и псы» (1963, рус. пер. 1965), «Зеленый дом» (1966, рус. пер. 1971), «Капитан Панталеон и Рота добрых услуг» (1974, рус. пер. 1979), повести «Щенки» (1967, рус. пер. 1973), «Тетушка Хулия и писака» (1977, рус. пер. 1979).